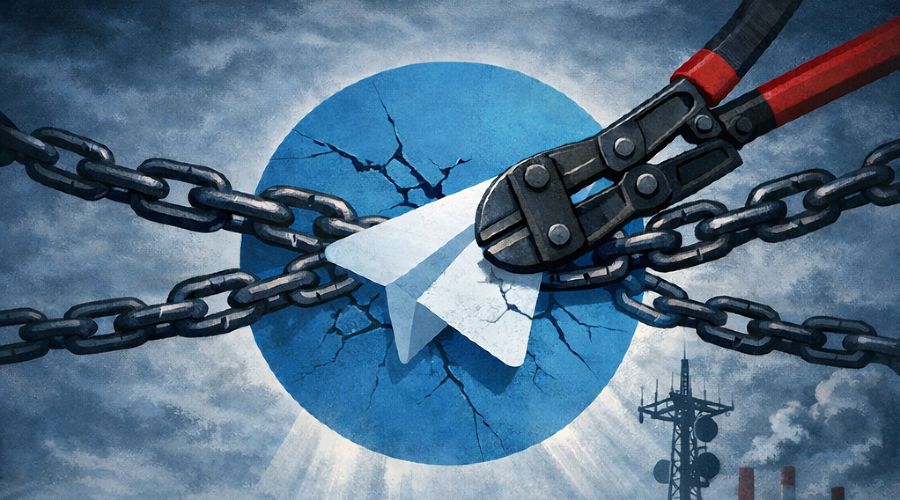«Холодное» желание против «горячего» порноспектакля капитализма. Интервью с историком искусства Борисом Клюшниковым
В сентябре на фестивале Geek Picnic в Краснодаре выступил с лекцией историк искусства и философ Борис Клюшников. Его выступление было посвящено искусству и научной фантастике.
Денис Куренов поговорил с Борисом Клюшниковым о философской художественной критике, об искусстве как зоне, свободной от императива удовольствия, о молодежном запале как идеологической уловке, а также о том, что надо обращать внимание на возможности и зачатки сопротивления, а не депрессивно-гностически говорить, что весь институт искусства лежит во зле.
Борис Клюшников — теоретик современного искусства, преподаватель кафедры кино и современного искусства РГГУ, лектор школы фотографии и мультимедиа им. Родченко, Британской высшей школы дизайна и института «База». Автор статей по философии искусства, критических текстов и курсов лекций по теории современного искусства.
Твоя лекция на Geek Picnic называлась «Искусство и научная фантастика: ксено-лекция о проблемах первого контакта». Расскажи вкратце, о чем она была?
— Я очень люблю концепты-словосочетания. Например, современное искусство и научная фантастика. Эти два концепта составлены похожим образом — их прочтение зависит от распределения главного и второстепенного слова. Что является субъектом современного искусства? Это искусство, которое создается в современности, или же искусство, которое само создает современность? Я считаю, что субъектом современного искусства, как оно было сформулировано в 90-е годы, является именно современность, которая не предсуществует агентам мира искусства, а создается, продуцируется ими. Однако мы можем сказать, что само словосочетание «современное искусство» показывает нам то, что делает современное искусство — оно показывает нам возможную двойственность трактовок, логический парадокс, в котором акт теоретического понимания так же противоречив, как и сама практика. Эта практику можно описать в терминах Делёза как дизъюнктивный синтез, соединение в отдельности. Словосочетание «современное искусство» соединяет возможность темпоральной трактовки, вытекающей из слова «современность» с возможностью художественной и эстетической трактовки.
Смотрите также:
Но то же самое верно о словосочетании «научная фантастика». Что является субъектом в данном случае? Если мы делаем акцент на фантастике, то научная фантастика — это в первую очередь литературный жанр, причем, как показал Дарко Сувин, это в первую очередь капиталистический жанр, в отличие от фэнтези, которое он называл докапиталистическим внутри капиталистического. То есть это литература. Но если субъектом является наука, то тогда проект научной фантастики не сводится к буржуазным литературным формам, а может представить перспективы науки, общества и техники, альтернативные капиталистическим.
Здесь проект научной фантастики очень похож на проект современного искусства. Литература и искусство — буржуазные формы, тогда как «научность» и «современность» предполагают возможность критической альтернативы той среде, в которой складываются жанры литературы и искусства. Наконец, и искусство, особенно понятое Смитсоном, который не отрицал темпоральность минимализма, как Джадд, а наоборот, форсировал ее, и фантастика работают с проблемой фикции и времени.
На лекции я углублял и прояснял итоги подобного сближения, соединяя концепты из теории научной фантастики и искусства. Например, мне кажутся очень важными концепции «когнитивного остранения» и «экстранаучной фантастики», потому что они по-новому могут работать в поле современного искусства.
Читайте также:
В прошлом году после краснодарского Geek Picnic я говорил с куратором и художником Дмитрием Булатовым, который занимается science art. Мне больше всего из нашей беседы запомнился австралийский художник Гай Бен-Ари, который из клеток крайней плоти сделал реально функционирующую нейронную сеть — аналог «биологического мозга». Мы с Дмитрием даже подумали, что этот мозг может стать президентом России, ну или хотя бы мэром Краснодара.
В свете темы твоего выступления хочу узнать, что ты думаешь о science art. Как ты к этому относишься? Какое будущее у симбиоза машины и человека в области искусства? Человек — это то, что следует преодолеть? Хотя бы в сфере искусства.
— Конечно, я не специалист по сайнс-арту. Я занимаюсь тем, как современное искусство теоретизируется и понимает себя. Если угодно, мне очень близка формулировка философии искусства Шеллинга. Он считал, что искусство — не просто предметная область, где философы могут применить свои методы. Наоборот, философию искусства нужно понимать как искусство, которое философствует само, является автономным мышлением со своей спецификой.
Если говорить о примере, который ты привел, то мне в нем интересно то, как именно понимается здесь современность и онтология произведения, какой образ удерживается. В вопросе ты упомянул нынешние границы национальных государств и городскую идентичность — сеть может стать президентом или мэром. Я считаю, что если мы оформляем существующее, находим новое техноэстетическое выражение устоявшимся социально-политическим формам, то это скорее противоречит современному искусству. Или мы можем сказать, что это технонеоклассицизм. Современное искусство как критическое понятие исходит из конструирования будущего субъекта (как и часть научной фантастики). Например, это экологическая фигура человечества, преодолевающего национальные границы и экологические кризисы. Это создание оперативной, работающей здесь и сейчас необходимой абстракции. Поэтому работы 2000-х годов тяготеют к экологической и миграционной форме. Современному искусству необходимо представить идеологию за пределами нынешних ограничений реакционной политики и редукции к готовым идентичностям.
Ты преподаешь в «Базе», которую основали Баскова и Осмоловский. Я брал у Анатолия интервью в прошлом году. Он любит размышлять о том, что такое искусство, а что — не искусство. И в разговоре с ним постоянно ощущается вот этот острый оценочный нерв. Из твоих статей, рецензий на выставки и фейсбука становится понятно, что ты исходишь немного из другой оптики. Как бы ты ее описал?
— Я абсолютно согласен с Анатолием в том, что искусство как понятие строится на дисквалификации: искусство/неискусство. Если мы удаляем это противоречие между автономией и гетерономией, мы в итоге понимаем искусство и, что важнее, современность эмпирически: «Все, что есть сейчас, в моменте настоящего, — все современно». Ричард Мейер и Клэр Бишоп верно отмечали, что подобная эмпирическая концепция хорошо подходит глобальному финансовому капитализму, где все ликвидно и растворено в абстрактности «настоящего». Но современность — не настоящее.
В чем мы с Анатолием не сходимся, так это в том, что нам интересны принципиально разные версии автономии. Испытав значительное влияние Гринберга и последующей традиции, Анатолий концентрируется на эстетической автономии. Ну это как мне кажется, это я так интерпретирую его понимание. Для меня же важна автономия искусства опять же в смысле, сформированном ранними романтиками и Шеллингом, — это философская автономия. Произведение искусства для меня — это тезис, выраженный вне академической философской традиции, но тем не менее тезис. Поэтому я анализирую произведения как высказывания, которые либо конструируют современность, либо поддерживают «настоящее». Я строю свою критику через философскую художественную критику, а не через эстетическую критику. Но надо признать, что эти автономии и позиции редко встречаются в чистом виде. Я могу прибегнуть к анализу эстетического суждения, а Анатолий может говорить о философии современности в произведении. Это не наши идентичности, а скорее стратегические позиции в критике. Они могут зависеть от целей и контекста.
В той же беседе с Осмоловским мы говорили о молодых арт-критиках, в том числе и о тебе. И мы оба согласились с тем, что читать, например, твои статьи гораздо интереснее, чем знакомиться с выставкой современного российского художника. Это симптом чего? О чем это говорит?
— Я вот думаю, что это скорее достоинство художников, а не мои статьи и тексты. Я объясню. Произведение искусства начиная с XIX века содержит в себе то же противоречие, что и капиталистические отношения. Это противоречие работы и удовольствия. Капитализм отчуждает труд, а это значит, что последний больше не связан с удовольствием. Нам говорят отовсюду: быть профессионалом означает умение делать то, что не нравится. Вопреки желанию. Желание же возвращается в капитализме тоже в отчужденной форме — в индустрии досуга и развлечения после работы. Ги Дебор прекрасно показал, как отчужденный труд и отчужденный досуг сплетаются воедино, создавая репрессивную ситуацию спектакля. Но что мы видим у художников начиная с XIX века? Когда Мане выставил свою «Олимпию», часть критиков, среди которых, кстати, был и Курбе, отметили, что Мане повел себя так, как будто ему совершенно наплевать на то, что он изображает. В то время как иконография «Олимпии» служила для многих любителей досуга эротическим стимулом, Мане подошел к этому сюжету радикально иначе. Его индифферентность к сюжету и акцент на формальных плоскостях цвета был чем-то вроде протеста против отождествления произведения и желания. Товар, выставленный на витрине магазина, пышет соблазнительностью, но Дюшан переносит его в искусство — и он вдруг теряет это свойство и становится почти ничем, почти пустым. Я люблю называть эту стратегию «холодным желанием» — в противовес «горячему» порноспектаклю капитализма. Но ведь и сам Дюшан не получает неописуемого вдохновения от реди-мейдов. Он делает их «холодно», выставляет индифферентность объекта с индифферентной, но радикальной поступью. Таким образом, в ситуации искусства мы вдруг сталкиваемся с тем же противоречием, о котором мы смутно догадываемся в жизни — несводимость труда и желания. Но эта несводимость в искусстве побуждает нас к критике жизни, к критике капитализма и раскрывает возможности «холодного желания».
Я помню, почему я стал заниматься искусством. Именно поэтому. Оно казалось мне зоной, свободной от императива удовольствия. Поэтому неинтересность искусства имманентна его истории и является ее политически значимой частью.
Что касается моих текстов, то они, как правило задействованы в логике соцсетей и живых выступлений и лекций. Они не интересны, они, скорее, обладают измерением спектакля. В этом мы все должны критически отнестись к теории и к тому, чем она становится сегодня. На самом деле Шеллинг был первый теоретик-суперзвезда, на его лекции продавались билеты. Я осознаю это критически и никогда не «кайфую» от лекций и докладов. Я не хочу, чтобы мне делали интересно. Проблема в том, что я сам еще не понял, не нашел форму преодоления спектакля, частью которого я являюсь. Если бы мне это удалось, я бы стал ближе к художникам. А пока что возрастающая роль и значение медиации в культурных институциях, в которых я тоже принимаю участие, скорее заглушает радикальный призыв искусства к «холодному желанию». И я заглушаю его в том числе. Мы всегда обсуждаем кризис искусства, это своего рода общее место, но мне кажется, что мы живем в величайший кризис теории, способов сохранить специфику искусства в том аспекте, что я привел.
Я помню, почему я стал заниматься искусством. Оно казалось мне зоной, свободной от императива удовольствия
Интересно после пассажа про «холодное желание» спросить у тебя о страсти, дерзости и запале в искусстве. Два года назад я был на Молодежной биеннале. И меня удивило отсутствие именно «молодости», молодежного запала, который ассоциируется с критикой, дикостью и неослепленностью институциональным конформизмом.
Откуда у современных художников, даже у молодых, эта зачарованность институциональностью, стремление вписаться в имеющуюся систему координат, желание стать прилежным учеником в Школе современного искусства, превратиться в художника, получить уютную идентичность artist и следовать по проторенному грантами пути и т.д.
Где те бойкие авангардисты, которые сбросят всех с гаража современности? Дадаисты, сюрреалисты, панки, ситуационисты, да даже те же московские акционисты во главе с Осмоловским — они-то точно не стремились стать прилежными учениками в этих бесконечных арт-школах, они были, скорее, теми, кто из этих школ сбегал и сжигал школьный журнал, украденный из кабинета директора.
— Я снова буду тебе оппонировать. На самом деле я считаю веру в молодежный запал идеологической уловкой. Я говорил о Мане и Дюшане в контексте «холодного желания». Но некоторые художники работали со страстью. Они хотели испепелить теплоту. Они хотели сжечь спектакль. Но сегодня я не вижу в этом какого-то потенциала. Мы находимся сейчас в битве двух уклонов. Левый уклон — только самоорганизация, только левацкие автономные трещины внутри капитала и т.д. Правый уклон — абсолютная жесткость музеев и институтов сверху.
Как в капитализме свободная рука рынка, все эти силы креативной деструкции на деле аккомпанируют и дополняют дворец централизации, национальные государства, без которых рыночные отношения устанавливаются с трудом. С одной стороны — анархисты, с другой стороны — карьеристы-бюрократы, которые напоминают друг друга слишком сильно. Я считаю, что критика должна так же сочетать в себе элементы массовости и спонтанности c институтами нового типа. Но эти институты необходимы. Как писал Ленин: «Социализм немыслим без крупнокапиталистической техники, построенной по последнему слову новейшей науки, без планомерной государственной организации, подчиняющей десятки миллионов людей строжайшему соблюдению единой нормы в деле производства и распределения продуктов. Об этом мы, марксисты, всегда говорили, и с людьми, которые даже этого не поняли (анархисты и добрая половина левых эсеров)».
Я считаю, что важен не бунт ради бунта — важны проекты будущих институтов. А как научиться организации для этого? Только через участие в биеннале и больших проектах. Эти проекты нужно критиковать, модифицировать и строить иначе, но глупо просто отшатываться от институтов, как если бы они были злом. Гройс очень хорошо как-то писал, что у молодых художников бунт очень часто выступает в целях пиара. Чтобы тебя признали художником, ты должен эпатировать мир искусства. Так и было в XX веке. Но сегодня такое ощущение, что бунт — это один из жаргонов пылающих менеджеров, мыслящих креативно.
Недавно в Краснодар приезжала с лекцией Людмила Воропай, и мы с ней говорили о мнимой борьбе якобы консервативных и якобы прогрессивных сил на примере, казалось бы, актуального для Краснодара противостояния — казаков и современного искусства. Мол, есть архаичные казаки, которые борются против добра и света, и есть современное искусство, которое как солнце всходит над дремучим Краснодаром.
И в разговоре мы пришли к выводу, что как и консервативность казачества, так и прогрессивность современного искусства — это во многом симуляция. Про казаков говорить сейчас не буду, это долгая тема. Давай про прогрессивность современного искусства. Не превратился ли проект совриска, когда-то несший (или декларировавший) некоторый эмансипаторный потенциал, в еще одну безделушку для праздношатающейся молодежи, которой нечем себя занять, в еще один свисток, которым можно выпустить пар протестной активности, не нарушая существующего статус-кво? Тут я больше говорю про западные страны, но и про Россию в этом аспекте хотел бы поговорить.
— Конечно, к современному искусству как к индустрии надо подходить критически. Увлекаясь этим, многие теоретики редуцируют искусство к существующим социальным способам его функционирования. Однако я не считаю, что современное искусство сводится к этому. Каждое произведение может быть моделью новой альтернативной институциональности. Мы должны обращать внимание именно на возможности и зачатки сопротивления, а не депрессивно-гностически говорить, что весь институт искусства лежит во зле. Отчаяние и решение бросить искусство в этот действительно сложный период кажется мне чем‑то реакционным. Институциональная критика стала чем‑то вроде институционального цинизма. Но ведь есть работы и их смысл, который, наоборот, дарит энтузиазм к сопротивлению и изменению жизни.
Отдельно хочу поговорить про региональное искусство. Не про Краснодар и Кубань, а про всю ситуацию в целом, про проекты исследования регионального искусства крупными институциями. Что ты думаешь об этих проектах? Как избежать (и возможно ли) колониального взгляда Большого Брата из Москвы на самоорганизующиеся инициативы в регионах с одной стороны и самоэкзотизации этих инициатив — с другой?
И как вообще уйти от этой логики, где изучение регионального искусства работает как отправление власти, как символическое присвоение. Вообще, можно ли делать современное искусство так, чтобы избежать возможности его присвоения условным «Гаражом»?
— Да, эти проекты очень странные. До этого я много тебе оппонировал и, может быть, даже защищал центристскую позицию. В этом же вопросе я полностью разделяю твой скепсис. Я думаю, подобной ситуации можно избежать следующим образом. В локальных контекстах должны собираться художники и работники искусства. Именно они должны ехать в центр и делать выставки в «Гараже» на собственных основаниях, используя помощь и ресурсы институтов. Однако в том русле, в котором большие институты работают сейчас, это просто невозможно. Этот взгляд из центра к тому же атомизирует и разобщает художников, зрителей, делает эту ужасную Москву еще более отвратительной. Нужно выступать не поодиночке, а коллективно, пытаться предлагать общие проекты и групповые выставки в разных городах.
Читайте также:
Эмансипаторные заветы искусства ХХ века твердили: «каждый человек — художник», «искусством может стать все что угодно», «освободим искусство из тюрем холстов и музеев». На первый и поверхностный взгляд эти заветы вроде бы претворены в жизнь. Современное искусство действительно стало некоторым местом сборки сообществ, определенного способом совместного бытия, инструментом для того, чтобы взаимодействовать с окружающей действительностью. Но что значат эти завоевания сегодня, когда человеческая жизнь, в том числе и современное искусство, тотально подчинены неолиберальному капиталистическому миру, который дает художникам вместо духа свободы и пространства самореализации необходимость самокапитализации и бухгалтерского учета своих работ, когда само желание стать художником превратилось в капиталистический фетиш?
— Раньше были эмансипаторные заветы. Теперь же сами эти заветы надо эмансипировать, да? Я считаю, что нужно критиковать собственное включение в искусство и настаивать на своей политической позиции. В твоем вопросе опять же очень много функционализма, который не учитывает конкретные позиции людей. Иными словами, ты забываешь, что люди мыслят. Они наделяют работы каким-то политическим, утопическим содержанием, даже если им приходится ночами оформлять заявки. Опять же, аннулирует ли отчужденная форма их труда направленность и неожиданные эффекты этого труда? Нет.