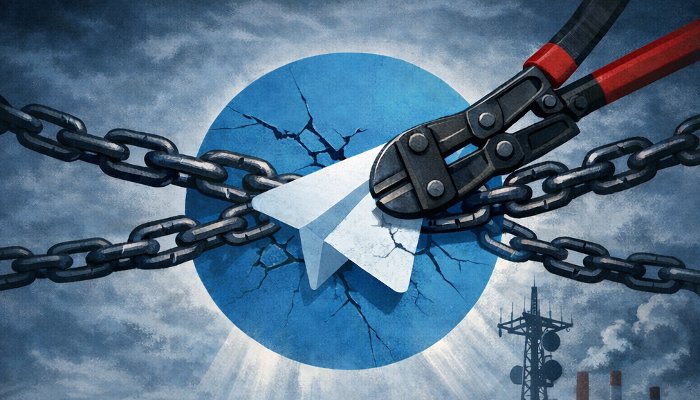Гасан Гусейнов: Об отсутствии политического языка, русском мате и эволюции "великого и могучего"
Портал ЮГА.ру поговорил с доктором филологических наук, профессором НИУ ВШЭ Гасаном Гусейновым об эволюции "великого и могучего", политической плоскости языка, русском мате и "деревянном языке" российских бюрократов.
В конце 1980-х годов Иосиф Бродский пишет стихотворение "Представление", в котором (отчасти утрированно, в иронично-пародийном ключе, но все же) он дает языковой слепок советской действительности. А какое произведение — художественное либо нет — иллюстративным для советского языка назвали бы Вы?
— Одного такого произведения — стихотворения, романа, политического документа — просто не существует. Советский язык не только откладывался на протяжении жизни трех поколений, но и переозначивался. Если бы роман "Тихий Дон" появился в 1960-х гг., он был бы расценен как опасный пасквиль на революцию и гражданскую войну, как это случилось с "Жизнью и судьбой" Гроссмана, а если бы Пастернак написал "Доктора Живаго" в 1920-е, этот роман стоял бы в школьной программе, а сам Пастернак считался бы лакировщиком в годы перестройки.
В своей готовности лояльно интегрировать деревянный язык в живую речь Платонов вскрыл само устройство советской мысли, за что был обречен на запрет.
Лакмусовая бумага для понимания советского языка — творчество Андрея Платонова. В своей готовности лояльно интегрировать деревянный язык в живую литературную речь он вскрыл само устройство советской мысли, за что был обречен на запрет. Главная беда современного российского общества в том и состоит, что оно запаздывает с осмыслением недавнего прошлого. В годы оттепели (примерно 1956-1965) не удалось сделать предметом изучения — на уровне вузов и школ — язык сталинской эпохи, из-за чего сталинизмы остались жить в языке и перестали узнаваться. В годы перестройки (1985-1990) не удалось критически осмыслить и весь советский массив, и особенно последнее двадцатилетие — от Брежнева до Горбачева. И получилось, что эпохальный проект — "Мемориал" — произвел грандиозный продукт для познания советского прошлого, но людей, понимающих язык этого прошлого, слишком мало.
А есть ли, как в случае с Платоновым, такая лакмусовая бумажка для понимания постсоветского языка?
— Это очень трудный вопрос. Ведь и Платонов — это автор, понимание которого у читателя и у исследователя разное, к тому же меняющееся на протяжении последних лет. Было время, когда в Платонове видели чуть ли не глыбу антисталинского сопротивления, а потом обнаружили в нем как раз стремление к честному, предельно честному "попутничеству". Получается, что раньше понимали его как раз как писателя довольно плоско. Сейчас видно, что перед нами — еще и эксперимент по созданию нового языка, который отвечал бы времени и новым задачам чаемого нового человеческого существа. Сейчас появилась и новая техника исследования всех текстов Платонова, или его идиоматического языка, на фоне гипертекста русской литературы ХХ века. Тут могут быть сделаны крупные открытия.
Сегодняшняя литературная ситуация антиканонична, но зато и литературные авторитеты по большей части самоназначенцы. Видимая рука книжного рынка и невидимая рука далеко не книжного бизнеса и политики, новые центры авторитетности, подпитанные дорогими маркетинговыми исследованиями — вот что манипулирует вниманием читателя, заставляя того "западать" на новейший масскульт. В результате у читателей отмирает культурно значимый определитель качества продукции. Орган распознавания качества завален новыми текстами, а сообщество учителей и журналистов ничем не может помочь, будучи "феодально раздробленным". Вот почему языковое сообщество диаспоризируется, даже тот его сегмент, который вроде бы внешне из страны не эмигрировал. Но живет — ментально и психологически — на архипелаге. Мне даже кажется, что прочитай большинство граждан "Архипелаг ГУЛАГ" Солженицына в середине 1970-х, вся история пошла бы иначе. Простите, что затянул предисловие. Так вот, лакмусовая бумажка для сегодняшнего постсоветского русского читателя — это, например, Светлана Алексиевич, передавшая все свое литературное дарование так называемому обыкновенному человеку. Представьте себе, что вы потеряли собственные дневники 30-20-летней давности, и вот вам их вернули.
В связи с этим можно ли говорить о том, что язык является в том числе и политическим феноменом? Как прослеживается влияние политического процесса — в широком смысле этого слова — на язык, на котором мы говорим?
— Язык больше политики, но политика языка может влиять на сообщество. В современной ситуации мы наблюдаем сознательно-бессознательную попытку авторитетных политических фигур и институтов (традиционных и внеполитических) предельно упростить языковое поле, сократив логический план языка, наращивать эмоциональное соответствие "социума" и "начальства". Результат — буквально ожидание, когда кто-нибудь сказанет, да так, чтобы высказывание сразу превратилось в мем, вроде совета премьер-министра пенсионерам: "Денег нет, но вы там держитесь".
То самое заявление Медведева пенсионерам в Крыму.
Вспоминается еще один мем, открывающий путинскую эпоху — "мочить в сортире".
— Это, конечно, одна из ключевых формул последних полутора десятилетий, и со временем становится видно, сколько пластов аполитичности и бесправия она вскрывает. Здесь и презрение к собеседнику, и декларация выхода за правовое поле, и переход на жаргон уголовников. Об этой фразе целые статьи написаны уже. В язык эта фраза, конечно, никаких коррективов внести не могла, а вот в речевое поведение и социальные повадки, габитус россиян, конечно, внесла. Общественная речь быстро деградировала.
Продолжая тему взаимосвязи политики и языка. Что скажете о лингвистической плоскости протестного движения 2011-2013 годов? Какой отпечаток на поле русского языка они оставили, кроме известной отсылки к правящей партии — "Партия жуликов и воров"?
— К сожалению, почти никакого влияния. Отчасти как раз потому это движение воспринимается как пустоцвет, что в толщу общества не попал главный потенциальный источник — живой и новый политический язык эпохи. Население попало в умственный водоворот официальных СМИ, а в качестве альтернативы от оппозиции оно получает стебной перформанс. Это вообще драма момента — отсутствие политического языка, массовое взаимное недоверие, которое и проявляется в необязательности языка.
Эхо тренда т.н. импортозамещения доходит и до лингвистического пространства. Часто в социальных сетях встречаю одну и ту же безумную статью — "200 иностранных слов, которым есть замена в русском языке". Мало того что многие предложенные слова там не являются русскими, так там еще и ошибки присутствуют.
Насколько целесообразно вообще говорить о возвращении к исконному русскому языку? Можно ли каким-то искусственным образом влиять на язык? Например, очищать его от каких-то вредоносных, по чьему-то мнению, частей. Или прививать те языковые пласты, которыми все перестали пользоваться. Можно ли искусственно сделать так, чтобы мы все вдруг заговорили на языке "Между собакой и волком" Саши Соколова?
Ничего этого сделать нельзя. И возвращаться, во-первых, некому, а во-вторых, некуда. В текущую школьную программу включен не Саша Соколов или Михаил Шишкин, а Захар Прилепин. Но дело не только в конкретных произведениях, а в самом отношении к языку как к бесплатному приложению к идеологии "великого и могучего". На деле-то носителей языка тошнит от предписаний и запретов. Так что русский литературный язык, если и не пропадет, то, возможно, благодаря свободным от господдержки русским школам в диаспоре — в странах Балтии или в Украине, где он многими воспринимается как реальная, а не символическая ценность.
Характерный пример внекнижной активности одной из главных литературных звезд современной России — Захар Прилепин вместе с рэперами то ли рефлексирует на тему миграции, то ли призывает к погромам.
Продолжая тему такого вот немного параноидального пуризма... Как влияет на состояние языка интернет с его нарочито упрощенным сетевым сленгом и интернет-мемами? Стоит ли бить из-за этого тревогу, как делают это некоторые телохранители русского языка?
— Интернет влияет на язык, раздвигая перед носителем языка и исторические рамки, и жанры, и даже внутренние формы слова. С другой стороны, новая техника упрощает речевой облик многих людей. Открывается больше возможностей, чем может освоить человек или группа, а говорить-то надо, и реакция на это может быть парадоксальной.
Говоря об интернете, хочу остановиться еще на таком средстве выразительности, как смайлик. Эволюция социальных сетей и мессенджеров позволяет сейчас общаться практически без слов — чуть ли не на каждую эмоцию у разработчиков есть уже готовый смайлик. Не приводит ли все это к коммуникативной деградации?
— Да, есть такая возможность у человека пишущего — деградировать. Но есть и другие люди, которые, например, знают, что у каждого из нескольких десятков смайликов или эмоджи есть несколько вербализаций, словесных кодов, и тогда смайлик может визуализировать вполне речевое явление, так что о деградации говорить уже не приходится. Это, скорее, включение в алфавитное письмо иероглифической компоненты.
Можно ли сравнить лингвистический сдвиг эпохи интернета с теми изменениями, которые проходили при появлении другого крупного медиума? Например, телефона.
Да, можно. Например, телефон породил чтение между строк, множество подтекстов, литературу потока сознания. А интернет — это общий гипертекст нескольких языков.
Еще одна больная для многих тема — т.н. обсценная лексика, также известная как русский мат. Одни его постоянно хотят запретить, другие (в частности, ваш коллега Алексей Плуцер-Сарно) считают русский мат национальным достоянием и делают многотомные словари, посвященные ему. Вам чья позиция ближе?
— Мне близко интегральное понимание языка, согласно которому вес обсценного слова тем выше, чем ниже уровень свободы слова и политической ответственности за высказывание. Я имею в виду политическую ответственность, например, чиновников перед обществом, избираемых перед избирателями, священнослужителей перед паствой. Мат — это противоложный механизм, включенный в обществе, лишенном правовой защиты. Поэтому запрещать его — это все равно что не разрешать людям выходить с заседания в туалет, одновременно не предоставляя никакой возможности справить нужду. В зале начинает пованивать. Чем дальше — тем больше. Вот так и с матерным языком. Постепенно матом пронизывается в таком обществе любое высказывание. Вот откуда у нас столько слов, составленных из обнуленных матерных значений, а также эвфемизмов второго уровня — скоммуниздил, блин и сотни других.
Запрещать мат – все равно что не разрешать людям выходить с заседания в туалет, не предоставляя никакой возможности справить нужду. В зале начинает пованивать.
А если русский мат становится феноменом повседневной речи, то не теряет ли он крайне важную экспрессивную функцию? Ведь многие слова стирают свое обсценное значение и превращаются в некое подобие коммуникационной смазки.
— Мат со времен Пушкина не переставал быть феноменом повседневной речи, и экспрессивной и манипулятивной функции не потерял, несмотря на свою роль смазки в речи не особенно требовательных к собственной речи людей. Но вот другие важные функции — коммуникативную и даже когнитивную, или познавательную, — мат неуклонно расширяет.
Для многих это, наверное, звучит довольно неожиданно. А за счет чего происходит такое расширение? Не могли бы Вы, в пределах доступного для печати, разъяснить саму процедуру этой, до некоторой степени, победы импортозамещения в языке?
— Во-первых, за счет подавления нейтрально-возвышенных форм речи, а во-вторых, за счет интеллектуально-правовой небрежности как раз интеллектуалов-пуристов. Цена этого импортозамещения, однако, непомерно высока. При описании действия или характеристики личности и события пользователи преобразованных матерных слов (долбо-, -издить, -издеть, -ярить, -изженный и десятки других подобных) декларируют отключение непосредственного значения слова (низменного описания полового органа или акта), но сохраняют его экспрессивно-эмоциональный ореол вокруг неприемлемого, но все же происходящего. Мат в роли всеобщего эквивалента обслуживает, таким образом, социальную беспомощность, которая лишает людей достоинства.
Стало быть, все-таки презирающие мат интеллектуалы правы?
— Бытовое резонерство имеет полное право на существование. Но интеллектуал, отрицающий само право общества на присущий тому язык, да еще и право на изучение этого языка, попросту не справляется со своими обязанностями. Социологу и антропологу не положено презирать изучаемое общество. А современная филология — это часть именно антропологии и социологии.
Возвращаясь к нашим социополитическим реалиям. Современное информационное поле заставляет постоянно вспоминать известную максиму Козьмы Пруткова: "Если на клетке слона прочтешь надпись "буйвол" — не верь глазам своим". Cовсем недавно, например, в Москве поставили памятник Жириновскому. Открытие памятника проходило под "Боже, царя храни". Т.е. открытие памятника главе либерально-демократической партии, известному своими националистическими лозунгами, проходит под имперский гимн. Это же какая-то тотальная симуляция. Или истории с идеологическим братанием КПРФ и РПЦ… Да даже само название нашего государства — "Российская Федерация" — это разве не фейк? Ведь федерацией Россия является только лишь номинально.
Ощущаете ли Вы дискурс информационного поля современной России как дискурс фейка, фальши, симуляции?
— Вы сами за меня и ответили, пожалуй. То, что Вы воспринимаете как фейк, это следствие чрезвычайно интересного явления — нарочитого презрения к логике, одна из форм которого — правовой нигилизм. Широковещательное заявление: "Истинного не существует нигде. Все — одна сплошная фикция. Весь вопрос в том, как и кто пропиарит нужное ему". Это широко распространенное недоверие к науке как таковой, к знанию. "Контора пишет!", "Плавали — знаем!" — все это формулы так называемого простого человека, от имени которого выступают неуверенные в себе люди, по прихоти истории оказавшиеся у руля. Они-то твердо знают, что из себя представляют, и вот вся эта их мнимость прет наружу. В тот момент, когда им кажется, что через язык они могут эту мнимость затушевать, происходит обратное — вскрытие самозванчества. Один из видимых признаков этого самозванчества — операции с языком, которые могут наблюдать буквально все люди.
Открытие памятника Владимиру Жириновскому. Москва, 2016 год.
А можете привести какой-нибудь пример?
— Конечно. Вот вам история официального названия МГУ им. М.В.Ломоносова:
С 1991 г. — Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.
С 28 марта 2008 г. — федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования (ФГОУ ВПО) "Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова" (МГУ имени М.В.Ломоносова или МГУ).
С 31 декабря 2010 г. — федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования (ФГБОУ ВПО) "Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова" (МГУ имени М.В.Ломоносова или МГУ).
C 22 октября 2014 года — федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова" (МГУ имени М.В.Ломоносова или МГУ).
И так — все учебные заведения всей страны. И все медицинские. И все прочие.
Что означает эта чертовщина? Только одно: сложился целый бюрократический слой, который не понимает разницы между абстрактным и конкретным, между рубрикой и личным именем, и этот слой деятелей, активно пользующийся языком не по назначению, сегодня подмял под себя общество. Это уже не "деревянный язык", это — опилки вместо языка. Тут и датировки все имеются для будущих исследователей.
Последний вопрос задам о состоянии образовательной системы в России. Практически каждый сегодня сетует на то, что поколение становится все менее и менее грамотным. А результаты ежегодного образовательного мероприятия "Тотальный диктант" свидетельствуют о том, что с русским языком плохо у большинства россиян. Так ли уж все плохо на самом деле? И есть ли выходы из этой ситуации?
— Мне кажется, тут целый букет интересных проблем. С одной стороны, появился слой образованных людей, владеющих несколькими системами грамотности — социально-сетевой, обычной школьной, компьютерной, медийной. Гораздо больше, чем в советские времена, стало многоязычных людей. Люди стали очень много писать. И вот как раз следствием многописания и малочитания оказывается бросающаяся в глаза малограмотность, увы, многих людей. Что касается "Тотального диктанта", то сама идея массовой игры, напоминающей урок, симпатичная. Но мне не нравится слово "тотальный" и страшно не нравится то, что читается по всему миру один и тот же текст. Но, наверное, я просто брюзга.
Что касается образовательной системы. Выращивание грамотных людей — самое дорогое занятие на свете. Чем грамотнее выпущенные нами школьники, тем лучше нам будет в конце жизни: у нас будут лучшие врачи, например. Эта прямая связь требует от современного государства повышать расходы на образование. Потому что это — самое выигрышное капиталовложение. Наше государство в лице своих чиновников всех уровней пока этого просто не понимает. Делает вид, что понимает. Говорит, что понимает. Но не понимает. Мыслит в категориях своих ФГБОУ, а не школ и университетов. Никаких ресурсов для остановки этой лесопилки у общества, к сожалению, нет. Поэтому родителям приходится заниматься с детьми за сеткой обычной общеобразовательной программы, отправлять детей учиться заграницу. Выход находят, но — на частном уровне. И, конечно, только те, кто в состоянии сделать это. Получается порочный круг.